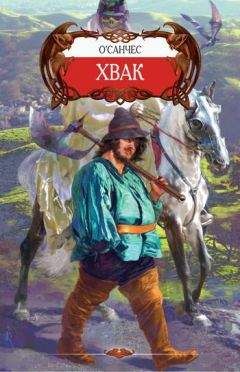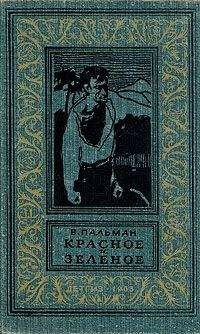Запели трубы, вспыхнули рукоплескания и погасли, послушные невидимому указчику.
Хвака освободили от кляпа, но кандалы пока оставили, хотя рядом с верзилой сотником из королевской лейб-гвардии, лично сопровождавшим и охранявшим Хвака, тут же, в «предбаннике», ждал мастер по железу, с инструментом наготове – кандалы сбивать.
– …овищные преступления, все же дается справедливый шанс: если вышеозначенный Хвак сумеет, выйдя из Восточных ворот, добраться живым до Западных, все равно – силою, магией, хитростью, либо сноровкою, Его Величество, в неизреченном милосердии своем, изволит даровать ему жизнь, честь и хлеб! Достигнув Западных ворот, сей злокозненный Хвак будет накормлен и напоен вволю, если понадобится – то излечен, оскоплен, ослеплен и надрессирован охранять двери дворцовых приемных покоев в ночное время, когда у слепца проступают неоспоримые преимущества перед зрячими…
– Слушай, парень, а правда что ты пятерых лейб-стражей голыми руками задавил во время ареста? На вид – сопляк еще, только что длинный.
– Не знаю, не считал я, не до того мне было… оскопить – это кастрировать?
– Оно самое. А ты их приемами или как?
– Бил чем придется, я же не помню: спросонок был и пьяный… А что там между воротами-то будет?
– Да уж будет. Это тебе, брат, столица, а не село Какашки, тут размах. Сейчас все сам увидишь. Только сдается мне, что неинтересно с тобой нынче получится. Жидковат ты на вид, а они там такое про тебя наслушались, что перестарались, по-моему, с голыми руками против Булулы выпускают. Дурачки какие-то. Скажи, дураки, да? Хоть бы ножик дали. Хорошо хоть, что ваш номер первый, не основной, на затравку так сказать…
– Ну так дай! Ты и дай. А что за Булулы такие?
– Булула. Он один. Три года уже как здесь. Сейчас увидишь. Не положено давать – казнят меня за пособничество – и всего делов, и на выслугу лет не посмотрят. Лейб-гвардия у нас опять неподкупна. Так что извини.
– Извиняю, да не очень: у меня ведь тоже шкура есть. А…
– Все! Эй, снимай с него, живо. На выход! Дорогу! Всем в укрытие! Всем в укрытие! Я тебе брошу, я тебе сейчас брошу! Эй, линейный, ну-ка врежь… – Стражник на трибуне погнался за неведомым зрителем, посмевшим бросаться кожурой от апельсина, но Хваку уже было не до этих подробностей, он смотрел вперед, на арену, пытаясь рассмотреть сквозь солнечный полдень свою судьбу.
– Удачи тебе, паренек! Хвак, да? Везения. Когтей пуще всего сторонись, вроде они ядовитые…
Хвак не ответил, он уже был там, один среди пространства.
Душа его, все еще не отдохнувшая, истомленная бесконечным мраком, коротко возликовала, оказавшись посреди света и простора, но рев трибун вернул его в суровую обыденность. Хвак стоял на самом краю узкой части овала, у Восточных, видимо, ворот. А от Западных мчался к нему кто-то черный и косматый!
С невообразимой скоростью этот некто преодолел почти двести локтей дистанции и резко затормозил перед Хваком, как споткнулся. Голова словно бы раскололась поперек и из нее выскочил и задрожал навстречу красный длинный круглый червяк – язык, а вокруг белые колышки – зубы да клыки. Ого!
Был этот черный ростом с Хвака, стоял вертикально – да не человек. И не медведь, и не обезьяна. Внизу четыре ноги, коротковатые, непонятно как растущие тесным пучком из мохнатой задницы, длинное туловище с облезлым брюхом, руки… Да, руки – толстые и длинные, с когтями, каждый в Хвакову ладонь длиной.
«Самец», – сообразил Хвак и быстро представил, как бы он со всей силы врезал туда ногой, в причиндалы. Представил – и испуганно загородил рукой свои – куцая повязка (все что на нем было) – защита ненадежная.
Морда как у… Хвак зайцем прыгнул в сторону, тут же в другую, отпрянул, опять отпрыгнул, побежал, остановился…
Зверь. Умный и хитрый, но не человек, хотя и похож чем-то… Он явно играл с Хваком, прижав его к борту арены, убивать не спешил.
В спине и затылке потрескивало и покалывало – Это Хвак слишком тесно приблизился к охранным заклинаниям, окружавшим арену. Заклинаниям помогала толстенная, прочная на вид металлическая решетка, сплошным кольцом десяти локтей в высоту, с загибом внутрь, также как и заклинания, опоясывавшая периметр арены. Движению воздуха решетки и чары не мешали, рев трибун порождал зловонный, как показалось Хваку, ветерок…
– Беги!
– Дерись!
– Жри!
– Трус!
– Давай!
– Убей!
Скорость у черной твари была изрядная, однако Хвак уже взял себя в руки и даже успокоился: не тургун перед ним, и даже не охи-охи. Черный… этот… Булула – прыгнул прямо и ударил с двух рук когтями, прямо, без замаха, как выстрелил. Не упади Хвак мордой в утрамбованный песок – была бы в нем двойная дыра вместо спины и брюха…
О, какой быстрый! Хвак жабой оттолкнулся от земли и в прыжке повторил удар Булулы: двумя кулаками от боков вперед, но не в туловище, а в морду.
Булула упал. И встал.
Трибуны взревели так, что замерцала серым цветом и затрепыхалась магическая охранная субстанция вдоль решеток.
И Хваку стало не по себе: только сейчас он осознал, что он не прежний Хвак, который куролесил почем зря, мощью играл и Матушку не слушался, нет в нем прежней силы! Слабенький отблеск далекого отсверка от когда-то былого… Вот и все, что осталось.
Душа у Хвака ушла в пятки…
Булула прыгнул вновь, и Хвак опять отскочил – вправо, потом влево, кубарем…
Окровавленный Булула уже не играл с ним, а стремительно наседал, чтобы не дать передышки и добраться до беззащитного тела… Хвак все-таки поймал мгновение, полуприсел и слева врезал Булуле и опять попал в челюсть. Белым и розовым костяным брызнуло на арену – Хвак постарался, вложился весь в удар – эх, весу-то маловато пока – да и Булула помог, повел башкой навстречу…
Булула упал. И поднялся.
Закладывало уши: трибуны не кричали уже, визжали!
Нижняя челюсть Булулы болталась кровавым мешочком, к разорванной плоти прилип обломок клыка, но глазки чудовища все еще хранили ум и ярость.
Хвак, утративший в вековечном заключении почти всю свою мощь, кое-что все-таки приобрел взамен: чутье и способность превращать это чутье в реальность. Здесь, на Атлантиде, там, в прежнем, древнем мире, такую способность люди называли колдовством, но раньше Хвак об этом никогда не задумывался, не вслушивался в себя, нужды не было… А теперь нужда возникла, и постигнутое следует беречь и развивать… – Так бормотал ему вновь обретенный внутренний голос, но некогда было вслушиваться и понимать. Потом, попозже…
Чутье подсказало ему, что – можно уже, пора: Булула ошеломлен. Рука болела, но оставалась цела, слушалась верно.
Хвак прыгнул чуть вбок, ударил, и опять слева.